Общество
Еврейский волкодав
Сумерки приносили Одессе налёты, убийства и ограбления...
13.11.2018
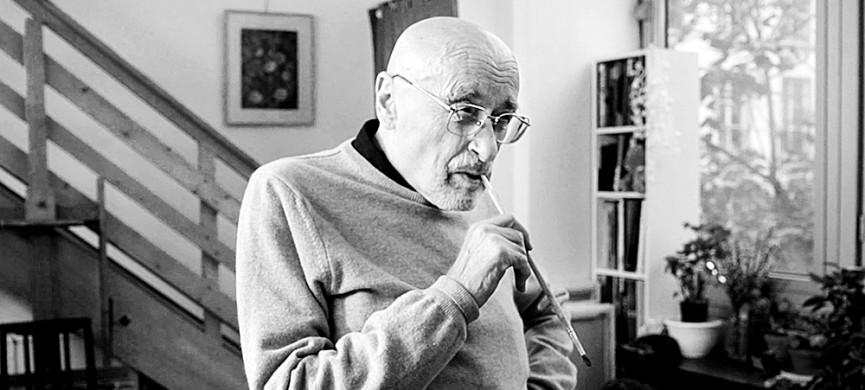
Своего отца Рабин не помнил: тот умер, когда ему исполнилось шесть лет. Отец был родом из Украины, мать – из Латвии, оба врачи, выпускники Цюрихского университета, перебравшиеся в своё время в Москву. В 1934 году завербовались работать на Крайнем Севере. Отца назначили заведующим культбазой в Ханты-Мансийский национальный округ, а мать – туда же главврачом.
Оскар с матерью и тёткой отправились на Север первыми, отец должен был прибыть спустя несколько месяцев со своей старшей приёмной дочерью Лидой. Но вскоре после их отъезда он скончался от рака желудка. Дорога на похороны заняла бы целый месяц, и мать не смогла с ним попрощаться. Жили в 200 километрах от города Берёзова на Оби – когда-то Петром I сюда был сослан Меншиков. Зимой в город добирались на оленьих упряжках, летом раз в месяц приходил теплоход. Дети сотрудников культбазы с удовольствием приняли Оскара в компанию, а вот в школе почти ничему не учили – по возвращении позже в Москву Рабину пришлось доучиваться второгодником.
Ханты и манси, замотанные в малицы до самых бровей, писал Рабин, приезжали на культбазу за мукой, солью и патронами. Мать работала не столько врачом – местное население предпочитало лечиться у шаманов, – сколько агитатором. Разъезжала с экспедициями по всему Ханты-Мансийскому округу, нахваливая оленеводам советскую власть. Оленеводов же интересовал только товарообмен. Деятельность агитаторов шаманы считали нарушением вековых традиций и причинением беспокойства духам. На одной из стоянок однажды ночью всех экспедиторов зарезали: матери Оскара там не было – заболела. Дело быстро открылось: шаманы из своих юрт никуда не делись. Советская власть осудила их и приговорила к десяти годам лишения свободы: северные народности считались отсталыми и нуждающимися в воспитании.
Вернулись в Москву в 1937-м. «Москва – это Кремль, где живет Сталин. Москва – это мороженое и конфеты в магазине напротив», – писал он позже о своих тогдашних мыслях. Мать относилась к советской власти уважительно: воспитывала в Оскаре приятие коммунистических ценностей и действий. Вождя народов он любил, как и все довоенные дети в Союзе. Вспоминал, что когда однажды в классе разгорелся спор, кто кого спас, если бы пришлось выбирать между Сталиным и собственным отцом, он выбрал Сталина. Жили в центре Москвы в коммуналке, где три комнаты занимала семья прежних владельцев, ещё две – семья врача, а в остальных двух ютились Оскар с матерью, двумя тётками и двоюродной сестрой.
В школу ходил с охотой. Чувствовал большой интерес к любому новому опыту, пытался заниматься скрипкой, вдохновившись Чеховым, сочинил несколько пьес. Когда на месте взорванного храма Христа Спасителя планировали возвести Дворец Советов с Лениным на вершине, разработал собственный эскиз – считался лучшим рисовальщиком в классе. Потом открылся кружок рисования, и Оскар всё своё время проводил там – все карманные деньги спускал на кисти и краски. Рисовать с натуры не любил, уже с детства демонстрируя тягу к дополненной, трансформированной реальности.
За год до войны мать заболела и к моменту начала бомбёжек была уже не в состоянии спускаться в убежище. Соседи разъехались в эвакуацию, в большой холодной квартире осталась жить только семья 13-летнего Оскара. Денег не было, еды и обогрева тоже. По настоянию матери он записался в ремесленное училище – там кормили. Но самым чудовищным стал 1942 год. Мать умирала: лежала под грудой одеял и прерывисто, хрипло дышала. Вычитала в газете, что в гостинице «Москва» остановился бежавший из Риги её бывший однокурсник по Цюриху Август Кирхенштейн. Когда-то он был в неё влюблён и даже сделал предложение, но она предпочла Якова Рабина. Оскар нашел Кирхенштейна, тот пришёл к ним домой, принёс большой пакет с лекарствами и витаминами. Убогость обстановки поразила Августа, писал Рабин, он задал несколько ничего не значащих вопросов и ушёл. «Лучше бы принёс хлеба», – сказала тогда мать. Вскоре её перевезли в больницу, и она умерла. В день похорон Оскар должен был идти в училище, с трудом отпросился, чуть не опоздал в крематорий к моменту прощания. Вбежал в последний момент, увидел её бледное мёртвое лицо, как накрыли гроб и как он скрылся за створками печи. Детство кончилось.
После войны два года учился в Рижской академии художеств, чудом добравшись в Латвию на крыше поезда и без документов. Паспорт выправить снова помог Кирхенштейн, который стал к тому времени председателем Президиума Верховного Совета Латвийской ССР. Правда, велел в графе «национальность» написать материнскую – латыш: «Здесь, в Латвии, нам евреи не нужны». Любовь к партии таяла на глазах – впрочем, это не мешало изучать реализм и учиться писать натюрморты.
В 1948 году Оскар перевёлся в Суриковское училище, из которого его исключили за формализм в следующем году. Жить было негде, питался кое-как, устроился десятником по разгрузке вагонов под Москвой на стройке северной водопроводной станции. Рассказывал, что работал с заключёнными – не с политическими, с обычными ворами и убийцами. Писать картины не перестал, и в художественной среде о нём стали говорить в 50-е годы прошлого века, на оттепельной волне. Он оказался редким, если не сказать единственным художником, который открыто не принимал официальных требований к изобразительному искусству в СССР. Он планировал рисовать жизнь только такой, какой её видел сам.
А за окном виднелось Лианозово – барачное поселение на территории бывшей женской колонии, которую расформировали после войны. Тут он жил. Комнатку в бараке № 2 добыл по службе, но не без труда – нарисовал две картины начальнику, раздававшему места. Поначалу жили в основном голодно, жена Оскара, Валентина Кропивницкая, принеся в дом яблоки, говорила детям: «Папа нарисует, а потом съедим». Детей родилось двое: дочь Катя и сын Саша. В их комнатушке со временем стала собираться вся тусовка альтернативно мыслящих эстетов: художники, поэты, позже музыканты, фотографы, артисты и журналисты. В конце 1950-х вместе с бывшим учителем и тестем Евгением Кропивницким он основал неофициальную художественную группу «Лианозово», а весной 1957 года стал участником III выставки произведений молодых художников Москвы и области, где выставил свои первые авангардистские работы. Это были сильно преувеличенные детские рисунки его дочери Кати – первый поп-арт в России. Хотя тогда и слова такого не было, и никто ничего похожего не рисовал.
В лианозовцах не было ни социальной избыточности, ни алкогольной, ни драматической, зато творчества – сколько хочешь. Они не состояли в Союзе художников, но большинство из них имело талант и жажду к реализации. Выставляли свои работы закрыто – дома для друзей и коллекционеров, которые, в отличие от советской власти, умели ценить живопись. «Нонконформисты» – в официальной культуре СССР это было ругательное слово. Однако, создав движение арт-сопротивления, они сумели стать известными и на Западе. Первого иностранца в дом к Рабину привёл поэт Игорь Холин – это была американская журналистка, работавшая в Москве. Они детективно добрались в Лианозово, американка купила за сто рублей картину Рабина и обещала приехать ещё. Владелец лондонской галереи Grosvenor Gallery Эрик Эсторик в 1965 году устроил вернисаж картин Рабина – всех, которые успел купить у него к этому времени. И когда до художника дошли эти новости, он не знал, радоваться ему или паниковать. Деньги появились, рисовать он мог позволить себе что угодно, но было обидно, что картины оседают либо на Западе, либо в серой зоне советских коллекционеров.
Нонконформисты искали любые законные лазейки к зрителю. Организацией этих нестандартных вечеринок и выставок занимался невероятно энергичный Александр Глезер. Первой была выставка в клубе «Дружба» на шоссе Энтузиастов в Москве – её разогнали через два часа после открытия, несмотря на присутствовавших там Евтушенко, журналистов и даже иностранцев. Многие последующие выставки постигла та же участь. В газете «Советская культура» появилась статья «Дорогая цена чечевичной похлебки», обличавшая нонконформистов, обвинявшая их в очернении советской действительности и неумении видеть в жизни яркие радостные цвета.
В 1974 году нонконформисты уведомили власти о проведении выставки на улице. Её не запретили и не разрешили – подобных выставок никогда в Союзе не было, потому в законе о них ничего не было сказано. На афишах написали: «Приглашаем вас на первый осенний просмотр картин на открытом воздухе с участием художников О. Рабина, Е. Рухина, В. Немухина, Л. Мастерковой, Н. Эльской, А. Рабина». К тому времени 22-летний сын Оскара Рабина, Александр, тоже выставил свои работы. Учитывая нелегальную известность авторов и международный интерес к их работам у коллекционеров, на выставку, проходившую 15 сентября на пустыре у пересечения Профсоюзной улицы и Островитянова, собрались журналисты иностранных агентств, многочисленные послы и их жены. Туда же подкатили милицейские машины и машины зеленхоза: руководству города вдруг пришло в голову высадить озимые саженцы в этот день. Всюду виднелись и крепкие парни в штатской одежде с лопатами в руках.
Художники распаковали свои картины и – за неимением треножников – держали их на руках. Крепкие парни стали вырывать их, завязалась возня. Появились бульдозеры, один из них двигался на картину Рабина, он побежал её вытащить, но бульдозер не сбавил скорость. Рабин едва не угодил под машину, схватился за край ковша и судорожно перебирал ногами, чтобы не оказаться под его ножом. Водитель не остановился, и когда двое молодых людей – сын Рабина и его друг – тоже повисли на ковше. В итоге американскому журналисту на ходу удалось забраться в кабину и заставить водителя заглушить мотор. Рабина с сыном тут же арестовали и повезли в отделение, куда позже подвезли ещё художников. Фотограф Владимир Сычёв снимал сражение и успел передать плёнку кому-то из иностранцев – на следующий день о выставке узнал весь мир, кроме жителей СССР, которые на неё не попали. Власти совершенно не понимали, как себя вести: фигуры художников стали слишком заметны. Рабина наказали только штрафом, причём он отказался его выплачивать, а всем нонконформистам разрешили провести выставку в Измайловском парке.
К концу 70-х надзор за бунтовщиками был усилен – стало понятно, что скоро нужно будет собираться в Магадан. Рабина начали травить выдающимся способом: вызывали на разговор в милицию, а потом отпускали, так и не поговорив. В 1977-м он был заключён под домашний арест – вообще невиданная для советских граждан мера. Стали давить на сына, домой являлись «доброжелатели» с разговорами, что Рабину пора в эмиграцию. Снова арестовали и отпустили на следующий день, когда стало известно, что об аресте передал «Голос Америки». Через несколько дней им с сыном пришёл вызов в ОВИР, а там – загранпаспорта и предложение туристической поездки за границу. Рабин прекрасно понимал, какая поездка предполагается, и сказал, что без жены никуда не двинется – пришлось выдать три загранпаспорта.
Дальше была торговля с властями за количество картин, которые могут вывезти художники. Рабин насчитал 18 своих «картинок», как он их называл, семь полотен сына и рисунки жены. Но в итоге вышло меньше. С сына, как с молодого художника, за вывоз таможенную пошлину не взяли, рисунки жены выехали по 15 рублей за единицу, а за работы Рабина попросили от 50 до 200 рублей. Всего он заплатил 1700 рублей – сумма огромная. Было жалко, но в то же время приятно: «Беря деньги за мои картины, власти, сами того не желая, признавали их ценность». В июне 1978 года, когда они уже полгода жили в Париже, Рабина пригласили в советское консульство – заслушать указ о лишении его гражданства СССР как человека, чья деятельность позорит высокое звание советского человека. Паспорт забрали тут же.
Рабин говорил, что был рад оказаться и жить в Париже, да ещё и возле музея Помпиду. Чувствовал себя здесь зрителем, статистом, но важнее было то, что он смог писать картины ещё 40 лет. Выезд сделал возможным несколько десятков будущих персональных выставок в Европе и Америке, открыл двери галерей, музейных собраний и частных коллекций – чего ещё хотеть художнику. Его картины плотные и грубые, чем-то напоминают работы Хаима Сутина. В эмиграции его сюжеты лишь дополнились лирикой. Он всегда подчёркивал свою аполитичность, несмотря на то, что социальная тема в его живописи – на первом плане. У него есть два сюжета с документами: с советским и французским паспортами. Свою историю он видел за советским, разумеется, а за французским была тишина и только звук кисти над холстом. После падения железного занавеса его, конечно, стали приглашать на выставки в Россию, в гражданстве восстановили в 2006 году. Он иногда приезжал навестить своё барачное прошлое.